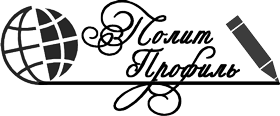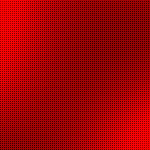Правящий класс и модернизация. Пир стервятников
Два события, вероятно, всегда наступают в России внезапно: зима и революция. Отношение коммунальщиков к зиме заставляет всерьез подозревать, что они в глубине души надеются, что на этот раз она вдруг не придет. Нечто подобное проявляется и в отношении к Русской революции начала ХХ века.

Ее обсуждение чаще всего крутится вокруг одной и той же мысли: «ведь ее вполне могло не быть». «Если бы царь сумел прислушаться к русскому обществу, к интеллигенции и провел необходимые реформы (или, наоборот, если бы царь перестал миндальничать с революционерами и прочей интеллигенций и задавил бы этих «бесов»)», «если бы царь не отрекся от престола (если бы отрекся от престола раньше)», «если бы Россия не вступила в мировую войну (если бы Россия не вышла из мировой войны)» и т.д.
В принципе, создание альтернативных версий истории вещь очень полезная. Это мыслительное моделирование возможных вариантов событий в сослагательном наклонении представляет собой для историка и политолога единственную возможную виртуальную исследовательскую лабораторию.
Вот только здесь есть свои ограничения. Чтобы подобного рода исследование не превратилось в полет чистой фантазии, нужно хорошо представлять объективные обстоятельства, определяющие границы, в которых протекает выбор людьми вариантов их действий. В советской историографии это так и называлось: диалектика объективного и субъективного в историческом развитии. Однако применить эту диалектику для объяснения неизбежности революции тоже непросто. Можно сколько угодно говорить об объективных предпосылках революции в виде экономической отсталости России и множестве ее внутренних противоречий, однако сама эта отсталость и эти противоречия революцию не делают.
По истории Русской революции собрано огромное количество материалов. Представлена масса статистической информации, чуть ли не по дням расписано, что делали основные участники той драмы с февраля по март 1917 г. Но до конца понять логику событий мы так и не можем. И едва ли какие-то вновь обнаруженные документы или обнародованные факты этому помогут. Более того, новые данные нередко больше ставят вопросов. Например, сегодня можно привести множество статистических данных не только об отсталости России, но и об экономических успехах страны в начале ХХ века, массовом экспорте зерна, укреплении рубля и росте благосостояния населения в пресловутом 1913 г. Как тут не поверить в случайность революции, а значит — и в возможность ее избежать? Всегда ведь хочется надеяться, что то, что нам не нравится, не случится, будь это хоть холодное время года, хоть революция.
Очевидно, дело в том, что мы много знаем, но мало понимаем. На сложность проблемы понимания исторического материала обратил внимание М.Вебер, предложив для ее решения даже специальное научное направление — «понимающую социологию». Условием такого понимания становится субъективный опыт переживания исторического времени.
С этой точки зрения, как раз нынешнее российское поколение, ставшее с начала 1990-х гг. свидетелем и участником очередной Русской смуты, пожалуй, в большей мере способно почувствовать события столетней давности, нежели их соотечественники советской эпохи.
И в первую очередь, этот прием «обратной проекции» позволяет выяснить, а в чем, собственно, заключается основной вопрос революции? Вопрос о власти – это, конечно, главный вопрос любого политического переворота. Но, в отличие от обычного переворота, центральный вопрос революции, это вопрос не о власти, а о собственности.
Причем, речь идет о собственности не в обывательском смысле, когда она понимается просто как вещь, — а в политэкономическом, где собственность — не вещь, а отношения между людьми по поводу вещей. Поэтому так важно не только сосредоточить вещи в своих руках, но и лишить этих вещей других. Тогда эти другие будут вынуждены вступать в нужные отношения по поводу собственности.
Например, в ходе реформ 1860-х гг. русские помещики отменили крепостное право, но землю оставили в своей собственности. Нет, как вещь она им была не нужна, ведь они не собирались брать в руки сошки. Важнее, что эту землю не получили крестьяне. И это заставило их продолжать работать на полях помещиков.
Уже в наше время, в результате специфически проведенной приватизации 1990-х гг. подавляющая часть граждан собственность также не обрела. Как в 1861 г. крестьян лишили земли, продекларировав личную свободу, так и в 1990-е гг. нынешнее поколение россиян точно так не допустили до собственности, предложив, аналогичным образом, удовлетвориться свободой и демократией.
Собственность оказалась сосредоточена в руках относительно небольшой группы людей, которую А.Чубайс назвал в то время «стратегическими собственниками». В просторечье же их стали именовать сначала «приватизаторами», а затем олигархами. Ни одно из этих понятий не выглядит удовлетворительным. На наш взгляд, больше для этого подходит термин «проприетер». Это слово французского происхождения включает в себя два нужных нам смысла – «собственник» и «хозяин», «сеньор».
Решение вопроса о собственности путем передачи ее проприетерам – собственникам-сеньорам — не только конституирует всю последующую экономическую структуру общества, но и определяет границы возможностей политической власти.
То, что эти возможности велики, — очевидно. Власть может издавать законы, назначать и снимать чиновников, вступать в войны, заключать мир и т.д. Но нам гораздо важнее понять, что она, несмотря на эти возможности, сделать все-таки не сможет. Перечислим эти ограничения.
Она не сможет осуществить модернизацию экономики. Для этого просто нет субъекта, поскольку основной класс – проприетеры – в модернизации не видит своего интереса.
Сегодня Россия, казалось бы, располагает всеми необходимыми природными и человеческими ресурсами для успешной модернизации. Однако технологическое отставание от развитых стран все увеличивается. Но ведь на самом деле смыслом начавшихся в 1990-х годах реформ была отнюдь не модернизация, а приватизация государственной собственности. Точно так же, как предпосылкой реформы 1861 г. явилась не забота о процветании государства и нации, не стыд за сохранение крепостнического рабства, а снижение доходов русских помещиков от импорта зерна в силу появления на европейском рынке дешевого хлеба из Австралии и Северной Америки. В сегодняшней России место вывоза зерна занял экспорт нефти и газа, позволяя так же получать максимум прибыли при минимуме затрат. Соответственно, как и раньше, у современных проприетеров для участия в модернизации нет стимулов, а у населения — необходимых ресурсов.
Но власть не может обеспечить не только модернизацию экономики, но даже простое расширенное производство. Для этого элементарно нет средств. Проприетеры обращают полученную прибыль в личное потребление, но отнюдь не направляют ее на развитие общественного производства. В результате, вместо заявленной диверсификации этого производства, происходит неуклонное «схлопывание» всех остальных отраслей, кроме покоящихся на природной ренте.
При этом отсутствие средств у остального населения, будь то крестьянин конца XIX в. или современный россиянин, не позволяет развивать собственное, хотя бы мелкое дело. Ведь необходимые для этого средства находятся в руках проприетеров. В дореволюционной России – это земля у помещиков, в современной России — банковские ссуды на развитие предпринимательства. Человек, «проинвестировавший» развитие своего бизнеса за счет банка, может сколько угодно именовать себя предпринимателем и бизнесменом, но на деле он не более чем наемный работник этого банка, своим трудом увеличивающий его капитал. Называть его предпринимателем, это все равно, что раба на галерах считать спортсменом-гребцом. Он попадает в долговую кабалу аналогично тому, как в конце XIX в. «крестьянин вынужден был, обрекая семью на голод, продавать все больше хлеба, чтобы достать деньги для уплаты выкупных платежей и податей…. Крестьяне должны были платить помещикам за аренду земли более 315 млн. рублей ежегодно» [3, с. 376].
Власть ничего не сможет сделать с коррупцией, поскольку в условиях абсолютного отсутствия стимулов к развитию, взятка становится единственным двигателем экономического прогресса.
Власть не может избавить экономику страны от зависимости от иностранного капитала. Дорогу ему открывает неспособность и нежелание отечественных проприетеров вкладывать деньги в реальный сектор производства. Например, в Донецком угольном бассейне, – основной «кузнеце» России начала ХХ в., «из 18 промышленных акционерных обществ, развернувшихся здесь в эти годы, 12 были полностью иностранными, остальные 6 смешанными» [2, с. 362]. В бакинскую нефть «только с 1910 по 1914 британских капиталов было вложено на 134,6 млн. рублей, тогда как отечественных всего на 9,58 млн. рублей (и это в период, когда национальный капитал находился на подъеме) [2, с. 364]. Наконец, иностранцы контролировали 75% всех действовавших в 1914 г. капиталов [2, с. 371]. Аналогичным образом, экономика современной России столь же зависит от заимствований со стороны внешних инвесторов, и в столь же велика извлекаемая ими прибыль.
Власть не может снизить уровень социальной дифференциации, несмотря на предпринимаемые усилия по социальному вспомоществованию населению. Общество, структура которого определяется данным специфическим распределением собственности, обречено на перманентное увеличение разрыва между бедными и богатыми.
Власть не может обеспечить ни развитие науки, ни качественное образование. Основная прибыль проприетеров проистекает не от применения на производстве передовых технологий, достижений науки и использования высококвалифицированного труда, а от использования природной ренты. Сегодня такой рентой выступает продажа природных ископаемых. В предреволюционной России ею была земля. Причем труд крестьян был простым приложением к ней, что тоже может рассматриваться своеобразным природным фактором. Ни в том, ни в другом случае такой экономике не нужны в большом количестве ни ученые, ни специалисты.
Власть не может обеспечить высокий уровень здравоохранения. Несмотря на энергичное стремление создать эффективную государственную систему здравоохранения, в реальности качественно лечить априори бедных людей никто никогда не будет.
Власть не может обеспечить суверенитет государства. Если бы в обществе было множество групп собственников, то внешняя политика определялась бы равнодействующей их интересов. В условиях же господства монособственника у власти нет вариативности в выборе внешнеполитического курса. Экономические интересы проприэтеров, экспортирующих на Запад зерно или нефтеводородное сырье, неразрывно связаны с его экономикой. Поэтому декларирование властью собственных интересов, отличных от западных, носит в большей мере тактический и показательный характер, если, конечно, она не желает вступать в конфликт с проприетерами.
Список этих ограничений нет необходимости продолжать, поскольку нашей задачей не является доказать сходство ситуаций в пореформенной и в современной России, тем более, что в них есть немало и различий. Равно как перед нами не стоит и тривиальная задача проиллюстрировать зависимость власти от интересов экономической элиты. Мы лишь подчеркиваем, что в общественной структуре проприетерного типа, для которой характерно господство собственника-монополиста, свобода выбора у власти сведена к минимуму. Точнее, она вообще невозможна в экономической сфере и ограничивается деятельностью, направленной, в первую очередь, на микширование социальных противоречий.
Осознание обществом беспомощности власти в решении фундаментальных экономических проблем и составляет экономическую предпосылку революции. Эта предпосылка совершенно не сводятся к реакции населения на падение уровня жизни. История, действительно, знает немало ситуаций, когда народ переживал чудовищные бедствия, включая голод, которые отнюдь революциями не оборачивались. Столь же глубоко неверно считать, что оценка дальних последствий экономических проблем свойственна лишь интеллектуалам, и приписывать остальному населению лишь «прямолинейные реакции» на ситуацию: ухудшение экономического положения – революционный подъем. На самом деле, народ очень точно осознает, или, по крайней мере, чувствует бессмысленность и опасность подобной, по сути, стагнационной экономической модели.
Причем «точкой невозврата» и начала революции становится не сам факт неспособности власти решить модернизационные проблемы, а осознание этого факта обществом. Как справедливо подчеркивает Ю.А.Красин: «Саботирование модернизации политической системы со стороны правящей элиты при оскудении ресурсов для поддержки «патерналистского конформизма» может привести к внезапному пробуждению «стихии» протеста снизу» [Российское общество 2017: 29].
Можно сколько угодно кивать на происки всевозможных революционеров, масонские заговоры и инсинуации зарубежных спецслужб, но именно это осознание и чувствование становится главной предпосылкой революции.
Причем приходит оно постепенно и, внешне, незаметно. Именно поэтому в России, несмотря на то, что ощущение потрясений (как, например, и ощущение приближения зимы) задолго до этого носится в воздухе, революция наступает неожиданно.
Эту обманчивость народного сознания в России отмечал Н.Я.Данилевский еще за полвека до Русской революции. «Все великие моменты в жизни русского народа, — писал он, — как бы не имеют предвестников, или, по крайней мере, значение и важность этих предвестников далеко не соответствуют значению и важности ими предвозвещаемого …. Старый порядок вещей, или одна из сторон его, не удовлетворяет более народного духа, ее недостатки уясняются внутреннему сознанию и постепенно становятся для него омерзительными. Народ отрешается внутренне от того, что подлежит отмене или изменению, борьба происходит внутри народного сознания, и когда происходит время заменить старое новым на деле, эта замена совершается с изумительной быстротою …» [1, с. 190-191].
Именно эти чувства на рубеже 1980-1900-х гг. переживало население СССР по отношению к прежней власти, что сделало возможным антикоммунистический переворот. И, очевидно, что именно эти же настроения были и главной предпосылкой Русской революции 1917 г.
То, что это накопление ощущения «омерзительности» старых порядков происходит в обществе незаметно, тоже вполне объяснимо. Моносубъектность в экономике автоматически пролонгируется моносубъектностью и в политике. Отсутствие альтернативных политических сил не оставляет места для иного видения реальности, кроме как через трактовку класса проприетера. И это достаточно опасно. Уже хотя бы потому, что некому сказать: «Зима близко!».
Литература
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга. 1991. 574 с.
2. Кагарлицкий Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М.: Ультра. Культура. 2004. 528 с.
3. Луцкий Е.А. История СССР. М.: Изд.-во Министерства просвещения РСФСР. 1956. 376 с.
Похожие записи
Комментарии отключены.